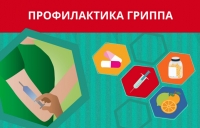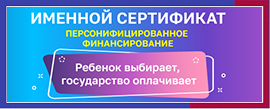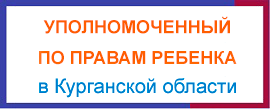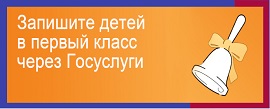ИСТЕРИЧНЫЙ МОНСТР
Автор Ольга Афонасьева, МенеджерИменно так одна измученная мама отрекомендовала мне своего трехлетнего сына. «Я чувствую, что просто готова его задушить, когда он устраивает очередной спектакль! Я устала от истерик по любому поводу!» По словам несчастной женщины, поводы для «спектаклей» действительно бывали самые разные: от «не хочу есть/спать/гулять» до «купи игрушку». Одним словом, классика. И то правда: по моим наблюдениям ничто так не приводит родителей в состояние безысходности, как детская истерика. Оно и понятно: если в других ситуациях мы худо-бедно представляем себе, как себя вести – находим слова, советы, можем, наконец, просто прикрикнуть, тут чаще всего наши привычные инструменты просто не действуют. Мы часто оказываемся в положении человека, который пытается что-то доказать, в то время как его не видят и не слышат – говори-не говори, разница невелика… Все это, зачастую, еще и в присутствии непрошенных зрителей. И вот мы уже обнаруживаем и самих себя в состоянии если не истеричном, то близком к нему. А что действительно происходит с нашими детьми? И как быть нам? Как сохранить их и самих себя?
Начну с главного вопроса: почему, собственно, детские истерики выделяются в некий особый подвид истерик? Разве есть в данном случае принципиальная разница между детьми и взрослыми? В состоянии истерики человек вне зависимости от возраста не может совладать с собой, ему по-настоящему плохо, он не в силах поменять действительность привычным способом, не справляется с осознанием происходящего. Конечно, в разном возрасте, а тем более у разных людей реакции на действительность несколько различаются. Именно поэтому нам чаще всего проще объявить причину детских расстройств несущественными причинами, в отличие от расстройств взрослых. Подумаешь — игрушку не купили! Подумаешь, не дали доиграть! Да, представьте, это может быть причиной очень серьезного огорчения, ведь все, как известно, относительно, и судить о глубине детского горя можно только в их, детской, системе координат. А критериев для такой сущностной оценки, увы, у нас попросту нет. И этот факт нам, взрослым, хорошо бы принять и запомнить. Да и сам человек ведь далеко не всегда знает, что и почему с ним происходит. (Разве мы с вами всегда понимаем, отчего именно впадаем в то или иное состояние?) Поэтому говорить о причинах истерик в определенном смысле бесперспективно. Ровно как и бесконечно повторять один и тот же унылый вопрос: «почему ты кричишь?»
Давайте по существу. Я бы предложил вместо того, чтобы привычно искать манипулятивные способы прекращения неприятных нам проявлений близких, отнестись к ним по-человечески. Думаю, что в первую очередь человека в истерике жаль. Это нормально — жалеть того, кому плохо, не так ли? Вот и давайте сообщим ему об этом. Это ведь часто так важно — услышать, что тебя жалеют. Важно просто сообщить человеку, что мы его ВИДИМ, что заметили его огорчение, что сами этим огорчены. Да-да — просто сообщить, желательно спокойно, обняв, так чтобы он нас услышал. Далее. Предлагайте помощь. Именно такими словами: «Чем тебе помочь?» Спрашивайте, что нужно человеку для того, чтобы справиться с этим тяжелым состоянием, предложите стакан воды, предложите умыться. Не уставайте помогать. Если помощь отринута, просто отойдите — пусть он побудет с самим собой. Пусть у человека будет возможность проверить (и со временем наладить) собственные механизмы перехода в другое состояние. Третье. Стоит объяснить нашу позицию. Что мы не умеем, не готовы общаться сейчас и таким образом (чаще всего это и является правдой). Это может звучать примерно так: «мне, честное слово, очень тебя жаль, я очень тебя люблю, я с радостью помогу тебе, чем могу, но общаться в такой форме не стану, поскольку не умею (мне это неприятно, мы ничего не достигнем, я нервничаю, я не могу так разговаривать и т.п.)» Разговор по существу сейчас невозможен, не злитесь: злиться просто не на что! Ведь истерика в 90 процентах случаев не имеет отношения к ее изначальному предмету. И, поверьте, ребенок способен это понять. Важно развести — и для самих себя тоже – его нынешнее состояние и предмет разговора. И позиция наша должна быть твердой. Если мы и сами чувствуем, как впадаем в «пограничное» состояние — самое время заняться собой (тот же стакан воды, глубокий вздох нам наверняка помогут). О предмете истерики (если он вообще существует) можно и нужно говорить только через некоторое — значительное — время после того, как человек успокоится. Ведь «внутри» он ничего не услышит, он переполнен горечью и жалостью к самому себе. Если мы хотим добиться когнитивной фиксации, то есть осознания человеком какого-то факта (на улице холодно, мы торопимся, я не согласен с тем, что ты льешь воду на пол, не хочу и не могу слышать, как ты кричишь, у меня действительно нет денег на игрушку), Необходимо вести беседу, когда все ее участники спокойны, когда им комфортно. То есть через несколько часов, а иногда и через несколько дней после события. В противном случае мы только распаляем и обижаем и собеседника, и себя самих. Я беру на себя смелость гарантировать, что при соблюдении этих простых человеческих правил, постепенно от истерик не останется и следа. Проверено и исследовано неоднократно. И последнее: тот факт, что у ребенка не хватает собственного опыта для изменения своего состояния, не делает его плохо воспитанным, распущенным, избалованным, а лишь более уязвимым. А это значит, что просто пора вспомнить о нашей родительской роли. И предложить защиту и помощь.
Дима Зицер